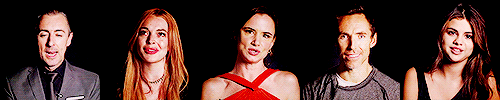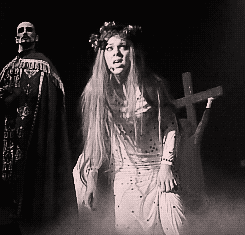Как же быстро меняется этот мир, и как же сильно я ненавижу, когда все становится с ног на голову. Почему я вдруг изменился? Почему я вдруг повзрослел и перестал верить в светлое беззаботное будущее, как тогда, несколько лет назад... Тогда моя жизнь была легкой, живой, свободной, и никто ни при каких обстоятельствах не смел меня в чем-либо попрекать, кроме отца. Все его указания, наставления порой просто выбешивали и появлялось желание ответить ему что-то типа:"Отстань! Я уже не маленький и сам все знаю!" Однако никогда в своей жизни я не скажу такое своему отцу. Для меня папа - второй после Бога. Я полностью доверяю его мнению, ведь он прожил куда дольше меня и знает каждую уловку, что встает на моем пути. Леопольд просто старается для своего ребенка. Старается поднять его, если тот оступился, боится за то, что он может пойти по кривой тропинке и вновь упасть. Именно этого отец боится больше всего в своей жизни и уделяет особое внимание нашему с Наннерль счастью.
Но все меняется, точнее все меняет время. Теперь я жалею, что когда-то был таким глупцом и часто не слушал Леопольда, его советы, его помощь. Что часто спорил с ним и делал все по своему. Слишком ветреным, слишком глупым я был. Твердые обещания о том, что это было только в первый и последний раз - пустяк. Людей не меняют обещания, их меняют только обстоятельства, в которые они попадают. И как раз одно из таких обстоятельств изменило меня. Заставило повзрослеть, вновь взглянуть на этот мир, на людей и их притворство, заставило меня жалеть обо всем сказанном_содеянном. Я жалею о том, что часто не слушал своего отца, что ступал по кривой тропинке и падал лицом в грязь, а он продолжал меня поднимать и говорить:"Не сдавайся, Вольфганг. Найди свое место, ведь музыкант без определенного места - шут!" - но вскоре опять все шло по кругу. Я делал по своему и совершил кучу ужасных ошибок, о которых и вспоминать ужасно больно. На самом деле, сколько бы лет не прошло, я до сих пор считаю себя главным виновником всего произошедшего. Ведь именно я в Мангейме был так наивен и не понял сразу все льстивые манеры семьи Вебер. Я чувствовал себя таким счастливым человеком рядом с ней... С Алоизией. Я был влюблен по уши в эту хрустальную особу с невероятным голосом, который поразил меня в первую же секунду. Я терял голову, чувствовал, как внутри меня зарождается новая жизнь, как бабочки летают в животе при каждом прикосновении к этой хрустальной девушке, Алоизии Вебер. Но не всегда все дается просто. Бывают и трудности, и преграды, которые надо преодолеть, чтобы добиться своего счастья. Для меня тогда же счастьем была Алоизия. Я так мечтал о том, чтобы поскорее сделать предложение ей, что даже забыл о своем таланте, о своей музыке... Даже матери не удавалось меня вытянуть из этого водоворота любви, закружившего юного композитора с головой. Господи, как же стыдно, как же стыдно. И сейчас, вспоминая все это, я хватаюсь за голову, сжимая волосы, чтобы физической болью хоть как-то заглушить душевную. И не будь я таким дураком, влюбленным и живущим своими мечтами, моя бы матушка до сих пор была бы жива, до сих пор радовала бы нас своей улыбкой, заботой. А без нее дом опустел. Даже мы с Наннерль перестали проводить вместе вечера за клавесином, радуя родителей только что сочиненными композициями и игрой в четыре руки. Теперь, когда я вырос, когда я готов отвечать за свои ошибки, исправлять их, я скучаю по своему детству. Мне не хватает этих дурачеств с сестрой в одной кровати, уроков по написанию музыки с отцом и, конечно же, мне не хватает теплой материнской заботы. Я не хотел возвращаться из Парижа, боялся. Ведь мне пришлось выложить перед Леопольдом такую новость, которая вырвала ему половину души. Да и Алоизия меня отвергла, дословно дав понять, что я ей нуден был исключительно для славы и места в опере. Эта ложь, упреки, обвинения... Всё сразу же посыпалось на меня, буквально перекрывая поток кислорода в легкие. Чувствую, ощущаю, понимаю... Не будет прежней жизни. Упал лицом в грязь окончательно. И казалось бы, исправить уже ничего нельзя. А может это только я так думаю, потому что даже не старался, даже не пробовал? Может не стоит опускать руки, когда все только начинается. Черная полоса бывает в жизни каждого человека, она неизбежна. Но не накладывать же за это на себя руки!? Нужно просто гордо встать, отряхнуться и идти дальше, высоко задирая колено. Да-да, я хотел это сделать, мечтал воплотить в реальность! И вот, я снова ловлю себя на мысли, что живу только в мечтах, а не сегодняшним днем. Но ведь эти мечты потихонечку сбываются... И я покидаю родительский дом, заявив отцу, что скоро он будет мной гордиться, а не кидать в лицо паршивые обвинения. Прекрасно понимаю, что ему больно от потери Анны Марии, мне и самому до сих пор сложно это воспринимать всерьез, и я невольно верю, что мама рядом, дарит мне свою любовь и лучик надежды в те моменты, когда, как мне кажется, все кончено. Воспользовавшись этим лучиком, я уехал в Вену, где все-таки добился желаемого, все-таки нашел свое место среди музыкантов! Теперь Леопольд может мной гордиться, ведь его сын не просто Вольфганг Амадей Моцарт, а маэстро Вольфганг Амадей Моцарт!
Какого было мое счастье, когда мою музыку стали так восхвалять, что слухи дошли аж до двора Иосифа. Каждый начинающий композитор мог только мечтать об этом, и я убеждаюсь, что все поездки в детстве по Европе были не зря. Они сумели сыграть мне на руку, как только я приехал в Вену. Ведь тогда, лет двадцать назад, по всей Европе ходили слухи об одаренном мальчике, который превосходно играет чуть ли не на всех инструментах, способен написать целую оперу и играть на клавесине с закрытыми глазами. Вся Европа гудела обо мне, восхищалась. Тогда я был маленьким, не понимал, что это нужно моему отцу. Слава. Вот тот запретный плод, который мечтает вкусить каждый музыкант. Впрочем я уже не задаюсь вопросом о том, нужна ли эта слава Леопольду сейчас? Эта слава нужна скорее мне, и я не переставая, не опуская руки, гонюсь за ней, сбивая всех и вся на своем пути. Просто это желание творить, показать свою музыку публике во мне разгорается с каждым днем все больше и больше. И дышать становится легче, стоит только переступить порог национального венского театра. Да! Наконец-то! Я так долго этого ждал! Теперь-то я чувствую себя в своей тарелке, понимаю, что иду в правильном направление и все течет так гладко... Так спокойно. Я пишу музыку к опере "Похищение из Сераля" специально для императора. Либреттист Готлиб Штефани выбрал именно меня для своей оперы. Это просто безумный человек, сумасшедший! Но как приятно с ним общаться, ведь нашли общий язык мы практически сразу. И как же приятно писать для его либретто музыку. Я вдохновлен. Я чувствую, как моя муза бродит рядом, а вот уже убегает задорно хихикая, когда я пытаюсь прижать к себе и поцеловать. Совсем забыл сказать! Моей музой к этой опере почему-то стала именно Констанц Вебер. Да-да, снова я связался с этой семейкой. Но Цецилия владелица гостинице, где я остановился. И к тому же, с Констанцей очень приятно общаться. Я вижу,что она открытая девушка и не скрывает своих чувств ко мне. И сидя вечерами в куче нотных листов, которые я изредка бросаю в воздух и задорно смеюсь, вдохновляюсь я именно присутствием Станци в этой комнате и ее смущенными взглядами из под пышных ресниц в мою сторону. В такие вечера, когда я вдохновлен, когда я готов творить, меня не волнует абсолютно ничего! Я полностью погружен в свое творчество. Однако стоит мне вновь переступить порог театра, как в ту же секунду от чего-то становится сухо в горле. Такое паршивое ощущение, что я нахожусь под чьим-то пристальным взглядом, который следит буквально за каждым моим движением. Я стараюсь не думать об этом, старюсь вести себя привычно, беззаботно. Но именно сегодня это ощущение буквально терзало мою душу, на лице была масса эмоций, за которыми я пытался скрыть свое волнение: смех, улыбка, возмущение, удивление. А все потому что рядом была Констанц, и с ней я мог показывать абсолютно любые эмоции, списывая свое волнение именно на общение с юной особой, в которую, как мне кажется, я влюблен.
И вот не всем нравится эта любовь, которая разворачивается на сцене театра. Слегка взволнованный Штефани старается меня остановить, привести в рассудок и наконец начать репетицию. А я сейчас больше был увлечен поцелуями с моей маленькой Станци, чем убеждениями либреттиста. Но стоило одной пчелке появиться на сцене Бургтеатра, как все тут же стихло... Эта глухая тишина испугала Констанц и заставила меня обратить все внимание на главную пчелку с тростью, стоящую по середине сцены. Это был граф Розенберг, директор придворного театра Вены. Та еще тварь, скажу я вам. Вот не нравлюсь я ему почему-то и все. По лицу Розенберга можно было понять, что тот готов поколотить своей тростью тут абсолютно каждого, в том числе и меня. Но обычной моськой меня вести себя серьезно не заставишь. Поэтому, не удержавшись, я дал еще кружок за Костанцей, убегая за кулисы и устраивая там шум. В это время раздались какие-то разговоры, которые доносились до моего слуха, про юное дарование и так далее. Я сразу понимаю, что это говорят обо мне, и тут то паршивое чувство слежки вновь обостряется во мне, от чего я эффектно выскакиваю из-за кулис, удерживая равновесие на одной ноге, чтобы не покатиться кубарем и не сломать себе шею.
-Мы можем начинать репетицию!- в очередной раз я звонко смеюсь и вскидываю руками в разные стороны, как при обычном разговоре это делают итальянцы. Странная у них, конечно, манера бурно на все реагировать... И почему-то в этот момент я ловлю себя на мысли, а не итальянец ли я часом? Ладно, это вызвало во мне очередную порцию смеха, когда я направился к оркестру. Как тут мир перевернулся. Сердце бешено забилось, буквально желало выскочить из груди и поскакать в сторону того человека, который, видимо, так пристально наблюдал за мной и из-за которого у меня с каждым появлением в Бургтеатре обострялось волнение и некий страх, что я упорно прятал в своей душе, в своем подсознании. Мимолетный взгляд в сторону зрительного зала и эти глаза... Этот взгляд хищника я никогда не забуду. Он пронзал меня буквально насквозь, заставлял дышать чаще, хватая ртом как можно больше кислорода. Да что черт возьми происходит!? Скажите мне, кто этот человек, что смотрит на меня таким взглядом... Ведь в тени зрительного зала я углядел только блеск в его темных глазах...
Минуту... Две... Сколько я простоял с открытым ртом, глядя в темную пустоту? Не знаю... Не помню. Но Кавальери уже требует начать репетицию и ее звонкий голос выбивает меня из раздумий. Как же много сейчас мыслей в моей голове, которые бушевали, словно стая воронов. Один вечный вопрос - кто он? Все. Дайте мне только ответ на него и все встанет на свои места...
-Да, госпожа Кавальери! Мы вернемся к арии номер 10, я считаю один такт не нужным..,- тараторю, словно сорока и встаю напротив оркестра, готовый начать дирижировать. А голова так и хочет повернуться в сторону того таинственного незнакомца...